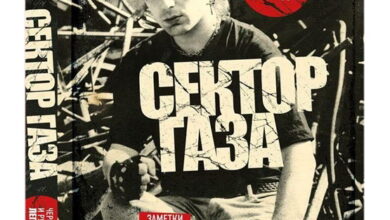Книга «Дорогая Тамара Эрастовна … Памяти профессора Т. Э. Цытович. Страницы жизни и творчества. Воспоминания»

Тамара Цитович, фото из представленного ниже издания
Профессор Тамара Эрастовна Цытович (1907-1992) оставила значительный след в истории Московской консерватории. Она работала в консерватории с 1938 года до конца жизни, более 27 лет возглавляла кафедру истории зарубежной музыки (1963-1990). Многие хорошо знали Тамару Эрастовну, многие помнят ее и сейчас. Но лишь единицы из ее коллег и многочисленных учеников могут догадываться, какая удивительная судьба выпала на долю этой мудрой, всегда сохранявшей спокойствие и выдержку женщине. Она не любила рассказывать о себе даже близким людям. Тем ярче выглядит картина жизни, содержащаяся в сборнике «ДОРОГАЯ ТАМАРА ЭРАСТОВНА … Памяти профессора Т. Э. Цытович. Страницы жизни и творчества. Воспоминания» (Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2020).

«Дорогая Тамара Эрастовна … Памяти профессора Т. Э. Цытович. Страницы жизни и творчества. Воспоминания» —
М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2020. – 328 с. Тираж 200.
Разделы, посвященные жизни выдающегося музыковеда, обрамляют сборник: в начале – «Жизненный и творческий путь», в конце – «Хронограф». В письмах Тамары Эрастовны и в воспоминаниях коллег (в основном это коллеги-профессора Московской консерватории, и здравствующие, и ушедшие), учеников, друзей и родственников некоторые события ее удивительной жизни словно оживают и становятся особенно волнующими.
Детство, учеба и молодость Тамары Эрастовны пришлись на эпоху, полную грозных, масштабных событий – Революция, Гражданская война, социалистическое строительство и сталинские репрессии, Великая Отечественная война. Будущему музыковеду пришлось заниматься не только историей музыки…
От царской семьи до Кубанской рады
В первые годы советской власти и в период сталинизма семья жила в ожидании разоблачения и наказания. «Преступлениями» были факт работы в Царскосельском реальном училище главы семьи, Эраста Платоновича (с 1907 года директор) и в особенности – что могло быть для советских карательных органов преступнее? – его контакты с императором, детям которого (в том числе цесаревичу Алексею) он преподавал математику и физику. Разоблачение было неизбежно, но произошло (1932 год) до «большого террора», и для Эраста Платоновича наказание оказалось достаточно мягким (ссылка в город Березники Пермской области, где он вскоре смог преподавать в институте).
К счастью, остался без последствий еще один, очевидно антисоветский эпизод, который мог привести к гибели всей семьи. Чудом выехав из Петрограда прямо в день революции (25 октября 1917 года), Эраст Платонович перевез жену и детей[1] к сестре в кубанскую станицу, чем спас их от голода и смерти. Но скрыться от грозных событий, захлестнувших юг России, не удалось, и главная опасность ждала впереди. Образовалась ожесточенно боровшаяся с большевизмом Кубанская народная республика (Кубанский край). Дочери пошли учиться в «столичную» школу (в Екатеринодаре[2]), а Эраст Платонович вошел в состав краевого правительства (занимался делами образования).
Окончательное установление Советской власти на Кубани произошло в марте 1920 года. Подобные перевороты всегда заканчивались кровавыми расправами и официальными казнями. Вряд ли уцелели бы не только враги большевизма, но и их семьи. Некоторые, в том числе Э. П. Цытович, впоследствии действительно считались уничтоженными. Но на этот раз сначала перед сменой власти из тюрем были выпущены большевики, а затем были помилованы и ограждены от самосудов и их противники.
[1] У Эраста Платоновича и Агнессы Петровны было три дочери: Нина и Тамара – двойняшки, Людмила на год старше.
[2] С 1920 года Краснодар.
Краснодар – Ленинград – Москва
После чудесного спасения маленькая Тамара продолжила образование в Краснодаре. С прекрасными результатами окончила школу (1924), музыкальный техникум (1926), поступила в педагогический институт (1925, физико-техническое отделение! – увлечение физикой унаследовала от отца). В 1926 году состоялся ее переезд в Ленинград: Тамара Эрастовна поступила в Ленинградскую консерваторию и тут же перевелась из Краснодарского института на 2-й курс Ленинградского университета. Встал выбор между «физикой и лирикой» (вышел запрет на совмещение двух высших образований), и физико-математический факультет пришлось оставить. Консерваторию Тамара Эрастовна окончила в 1931 году по классу фортепиано. В том же году вышла замуж и вместе с мужем переехала в Москву, где устроилась работать во Всесоюзный радиокомитет.
Происшедшее в 1932 году «разоблачение» отца отозвалось и в жизни дочери. Краснопресненский районный комитет принял решение об исключении Т. Э. Цытович из комсомола с очень впечатляющей формулировкой: «как классово-чуждую, пролезшую в комсомол, пытающуюся разложить комсомольскую организацию»! Останься это решение в силе, биография Тамары Эрастовны была бы навсегда испорчена, а поступления в аспирантуру и всей музыковедческой карьеры могло не быть вовсе. К счастью, этого не произошло: Московский городской комитет комсомола не утвердил роковое решение, заменив исключение строгим выговором.
Аспирантура. Рассказ в письмах
Писем в сборнике совсем немного. «Голосом» самой Тамары Эрастовны озвучен период в ее жизни хронологически небольшой (1934-1936), но самый важный с точки зрения профессионального становления. С осени 1934 года она стала аспирантом ГАИС (эта экзотическая по нынешним меркам аббревиатура расшифровывается как «Государственная академия искусствознания»). Академия находилась в Ленинграде, где Тамара Эрастовна подолгу находилась и регулярно писала мужу, работавшему в Москве.
Последовательность писем образует вполне законченный рассказ. Аспирантура в Ленинграде, хоть и продолжалась недолго, насыщена событиями и встречами. Начало – вступительные экзамены, особенно предмет со зловещим, знакомым всем советским студентам сокращенным названием «диамат» (диалектический материализм, «сдать» который было куда важнее, чем специальность). Вскоре выяснилось, что диамат властвует и в программе обучения аспирантов. Музыковедам, оказывается, нужно не только знать Канта и Плеханова, но и разбираться в уставе колхозной артели, в НЭПе, беспощадно обличать партийную оппозицию!
Современному читателю покажется неожиданным отношение музыковедов-современников к легендарному отечественному искусствоведу И. И. Соллертинскому (он едва не стал научным руководителем Тамары Эрастовны). Особенно впечатляет описание бесцеремонного вмешательства в учебный процесс вышестоящих инстанций в лице известного партийного деятеля А. С. Бубнова, в то время наркома (министра) просвещения. Его неожиданное «вторжение» вогнало начальство академии в трепет, а итогом партийной критики стало временное расформирование ГАИСа в 1936 году.
Впрочем, Тамара Эрастовна в это время там уже не училась – после первого курса она взяла отпуск для рождения ребенка и оставалась в Москве. Но именно в ГАИСе произошла встреча с человеком, многое определившим в дальнейшей жизни. Работа над диссертацией началась под руководством выдающегося музыковеда, профессора Ленинградской консерватории Романа Ильича Грубера (1895-1962), и хотя полноценного сотрудничества после расформирования ГАИСа не получилось, именно Роман Ильич через 10 лет пригласил Т. Э. Цытович на кафедру истории зарубежной музыки (тогда – кафедра «всеобщей истории музыки») Московской консерватории.
«С помощью» Тамары Эрастовны, искавшей возможность продолжить аспирантуру в Москве, Р. И. Грубер надеялся еще в 1936 году начать работу в столичной консерватории, считая возможным повысить научный уровень ее исторических кафедр. Слов Романа Ильича о желании иметь свою ученицу и «пробивать затхлую атмосферу в Московской консерватории» (это крепкое выражение приведено в письме самой Тамарой Эрастовной как цитата) достаточно, чтобы оценить сложность взаимоотношений двух музыковедческих центров. Руководство историко-теоретического факультета сделало все, чтобы не «подпустить» ленинградского коллегу к консерватории; Тамаре Эрастовне пришлось писать диссертацию практически самостоятельно, лишь изредка пользуясь консультациями Романа Ильича[1].
[1] Диссертация была защищена в 1940 году. Р. И. Грубер начал работать в Московской консерватории в 1943 году, пережив в Ленинграде большую часть блокады.
В окружении Сталина
Если в детстве Т. Э. Цытович имела возможность общаться с членами царской семьи («дразнила великих княжон», как выразился один из ее учеников, директор училища при Московской консерватории В. П. Демидов), то в зрелые годы ей пришлось тесно соприкоснуться с высшими эшелонами власти и даже столкнуться с верховным правителем страны – И. В. Сталиным.
Муж Тамары Эрастовны, блестящий литературовед Михаил Борисович Храпченко (1904-1986) в 1939-1948 годах был председателем Всесоюзного комитета по делам искусств (ВКИ), фактически министром. Вскоре после его назначения на банкете в честь 60-летия вождя (21 декабря 1939) произошел краткий и довольно опасный диалог между именинником и Тамарой Эрастовной. Празднование затянулось до утра, и Сталин решил обратиться «к народу»: продолжать или заканчивать? В качестве народа он неожиданно выбрал молодую жену молодого председателя ВКИ. Пришлось проявить свойственную Тамаре Эрастовне выдержку. Она сумела угадать желание вождя, сразу одобрившего ее слова: «Товарищ Сталин, пора заканчивать. Вам надо отдыхать, а нам пора на работу».
Наиболее опасным для М. Б. Храпченко и его семьи стало начало 1948 года. Знаменитое разгромное для всей советской музыки постановление ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” Мурадели» (страшное обвинение в формализме было предъявлено крупнейшим композиторам во главе с Шостаковичем, Прокофьевым, Мясковским, Хачатуряном, Шебалиным) вышло 10 февраля уже после скандальной отставки Храпченко с его поста. Именно он как руководитель комитета был объявлен ответственным за «серьезный провал советского музыкального искусства».
Разжалованных «министров», как правило, репрессировали, в лучшем случае отправляли в ГУЛАГ. Казалось, и опальному председателю ВКИ не избежать этого. Л. П. Берия, лично вызывавший М. Б. Храпченко на ночные допросы, давно относился к нему с неприязнью. Но, как и в случае с отцом, большая беда миновала семью Т. Э. Цытович. В апреле преследования кончились, дело ограничилось строгим выговором «с занесением». Что стало причиной? Сын Тамары Эрастовны Валерий Михайлович запомнил фразу Сталина, дошедшую до отца: «Хороший работник был Храпченко, но дал себя запутать в мелочах». Это дает основание думать, что сам Сталин помешал Берии довести дело до конца. Может быть, здесь сыграло свою роль и женское обаяние супруги бывшего «министра»?
«Могла бы стать министром»
После окончания аспирантуры (1938) Т. Э. Цытович работала научным сотрудником Музея им. Н. Г. Рубинштейна при консерватории. И только в 1946 году, на пороге 40-летия, она благодаря Р. И. Груберу начала преподавать и получила возможность реализовать свое главное призвание педагога и организатора. Начало было непростым – с большим трудом удалось получить звание доцента (1949 год), пришлось отражать обвинения в формализме, от которых после постановления 1948 года пострадали не только композиторы, но и многие музыковеды.
1962 год – важнейшая веха и в жизни Тамары Эрастовны, и в истории консерватории. После смерти в марте Р. И. Грубера процесс поисков и утверждения нового заведующего кафедрой затянулся до нового года. Возникли весьма авторитетные кандидатуры со стороны, но коллектив кафедры настоял на том, чтобы ее возглавила именно Т. Э. Цытович.
Общепризнанные достижения кафедры в следующие десятилетия – и педагогические, и научные – подтвердили абсолютную правильность выбора; многолетний коллега Тамары Эрастовны профессор Г. В. Крауклис даже назвал его «эпохальным», подкрепив эпитет следующими словами: «в этой исключительной женщине таились такие “резервы” острого ума и организаторского дара, дипломатической гибкости и настойчивости…, что она была бы вполне на месте и на гораздо более высокой должности … – вполне могла бы стать послом, министром». Он же фиксирует общее мнение: «коллектив кафедры сплотился вокруг этой “железной леди” в дружную семью»[1]. В конце жизни Т. Э. Цытович позаботилась и о будущем педагогической «семьи». Как написала профессор И. В. Коженова, она «сама воспитала преемника и передала кафедру в надежные руки» М. А. Сапонова.
Все коллеги Тамары Эрастовны вспоминают тщательную подготовку, продуманность и четкость ведения заседаний в сочетании с «элегантностью» речи (идущей из царскосельского детства). Столь же четко была организована работа над коллективными трудами (это была «поистине ее стихия» – подчеркивает профессор М. А. Сапонов). Под руководством Т. Э. Цытович на кафедре была создана уникальная серия книг об австро-немецкой музыке от Бетховена[2] до Брамса и Брукнера, сочетающих качества учебных пособий и научных исследований; появились сборники научных трудов о Бахе и Генделе (к 300-летию), о Вагнере, о музыке Африки и Азии (особую роль заведующего кафедрой в преодолении музыковедческого «европоцентризма» отмечают профессора С. Ю. Сигида и В. Н. Юнусова).
В кратком, далеко не полном обзоре талантов Т. Э. Цытович нельзя упустить ее дар редактора. Все коллективные труды в конечном итоге редактировались ею. С большой благодарностью об «умном и очень бережном» редактировании пишет профессор С. Н. Питина: «она не касалась каких-либо индивидуальных моих черт – она редактировала общие вещи. Я была в диком восторге». Доктор искусствоведения Ю. С. Бочаров восхищался такими качествами своего учителя: «научная интуиция и поразительное редакторское чутье, практически безошибочное видение недостатков в, казалось бы, безупречном тексте».
[1] Цитата скомпилирована из двух высказываний: эпитет «железная леди» на стр.243, остальное на стр.246
[2] Книга о Бетховене была в основном подготовлена еще при Р. И. Грубере
Ожившие тексты
Благодаря сборнику «Дорогая Тамара Эрастовна» увидели свет части создававшейся в 1950-70-е годы, но так и не появившейся коллективной монографии «Музыкальная культура Австрии XVIII века». Т. Э. Цытович работала над главами о Глюке и Гайдне. Текст о Глюке был полностью завершен. О Гайдне были написаны основные разделы: симфонии (защищенная в 1940 году кандидатская диссертация была посвящена именно симфониям Гайдна), квартеты, оратории.
Редакторы-составители М. А. Сапонов и Ю. С. Бочаров отобрали и включили в сборник почти полностью главу о Глюке и целиком раздел о симфониях Гайдна (очерк «Гайдн и его искусство» предшествует ему в качестве вступления). Тексты Т. Э. Цытович приведены без изменений (добавлены только необходимые комментарии). Им свойственны безукоризненная логика и отточенный литературный стиль. Актуальность их несомненна. Наука, конечно, значительно шагнула вперед, но свою основную функцию – учебных пособий, причем и для колледжей, и для вузов – материалы о Глюке и Гайдне сохраняют. Кроме того, тексты из далекого советского прошлого выглядят как «ожившие страницы» истории, подчеркивающие изменения, происшедшие в музыковедении за полвека.
Украшением сборника стали многочисленные фотографии из семейного архива В. М. Храпченко. Сами по себе являясь историческими документами, они иллюстрируют жизнь Т. Э. Цытович (и в какой-то мере историю страны) с самых первых, дореволюционных лет.